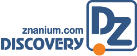Прагматическая теория метафоры является опорной для функционального подхода. Основная идея этого подхода состоит в том, что метафора возникает не в семантической области языка, а в процессе использования языка в речи. Прагматическая теория является существенным дополнением к семантико-синтаксическому подходу
интеракционистская теория метафоры, метафорический перенос, прагматика
Рассмотрение интеракционистской теории показало ограниченность семантических критериев для решения проблемы метафоры. Были предприняты попытки рассматривать метафору как механизм формирования смысла высказывания в различных разновидностях речи. Для данного подхода метафора – это функционально-коммуникативное явление, которое реализуется в высказывании. Данный подход наиболее актуален для лингвистических направлений, изучающих различные аспекты теории речи. Выделяется несколько теорий, которые обеспечивают методологическую базу этого подхода. Прежде всего, это прагматическая и коммуникативная теории метафоры [6].
Прагматическая теория метафоры является опорной для функционального подхода. Основная идея этого подхода состоит в том, что метафора возникает не в семантической области языка, а в процессе использования языка в речи. Областью действия метафоры являются не предложения, а высказывания.
Прагматическая теория, однако, не опровергает основные положения семантико-синтаксического подхода, она является существенным дополнением к нему и позволяет перенести изучение метафоры на уровень речевого высказывания, используя все основные положения о семантических механизмах возникновения метафорического значения.
Прагматический подход к метафоре пытается учесть и эксплицитно зафиксировать не только семантические инварианты, но и экстралингвистические факторы, оказывающие влияние на интерпретацию языкового выражения как метафорического. Данный подход берет за основу, прежде всего теорию речевых актов Дж. Остина (Остин, 1986). Теория речевых актов рассматривает язык через призму человеческой деятельности, при этом анализу подлежат конкретные акты произнесения [5, 1].
Прагматика как теория речевых актов исходит из того, что основной единицей коммуникации является не предложение или какое-либо другое высказывание, а выполнение определенного рода действий. Речь как действие воплощена в диалоге, который подчинен психологии межличностных отношений. Эта форма существования языка послужила материалом для формирования правил коммуникативного кодекса, отступление от которых определяет косвенные смыслы высказывания [2, 5].
Чрезвычайно важным для целей настоящей работы является определение, предложенное Ю.С. Степановым, который в качестве предмета прагматики выделяет связный и достаточно длинный текст в его динамике – дискурс, соотнесенный с главным субъектом, т.е. творящим текст человеком [4]. Соглашаясь со Ю.С. Степановым, считаем необходимым добавить, что поскольку текст создается автором для передачи его читающему или слушающему, обязательным элементом в этой связи является и воспринимающая сторона, то есть необходимо учитывать того, кому этот текст предназначается, поскольку прагматические интенции говорящего (пишущего) должны быть понятны слушающему (читающему).
Последние исследования прагматики выделяют в качестве ключевой проблемы вопрос о реализации невыраженного, так называемого «невидимого» значения.
В прагматической теории метафоры рассмотрим теорию Д. Дэвидсона и Дж. Серля. Д. Дэвидсон считает, что явление метафоры нельзя объяснить в рамках семантического подхода. Категорически отрицая, что метафора наряду с буквальным значением наделена еще и некоторым фигуральным, Д. Дэвидсон рассматривает метафору как явление, возникающее в процессе использования, употребления языка, а не в собственно семантической области: «коммуникация – это взаимодействие мысли изреченной и мысли, извлеченной из речи. Метафора... пользуется в дополнение к обычным языковым механизмам несемантическими ресурсами» [5]. Прагматическое значение, считает Дэвидсон, является результатом взаимодействия семантического значения с внеязыковыми факторами. Однако внеязыковые факторы не вносят никакой дополнительной информации в содержание выражения. Они могут иметь значение только для истолкования и понимания выражения.
По мнению Д. Дэвидсона, то, что обычно называют «значением метафоры», есть прагматическое, а не семантическое значение. Он отрицает, что метафора несет какую – либо дополнительную познавательную информацию, она выражается семантически константными терминами, для которых верны условия истинности буквальных предложений. В то же самое время Д. Дэвидсон признает, что метафора «содержит в себе изюминку» [7]. Вопрос же о внеязыковых факторах, которые определяют истолкование семантически стандартного выражения как метафорического, Дэвидсон вообще оставляет без ответа, так как, по его мнению, эти факторы необозримо вариативны и ситуативны: «метафора целиком принадлежит сфере употребления... Понимание (как и создание) метафоры есть результат творческого усилия: оно столь же мало подчинено правилам... Для создания метафор не существует инструкций нет справочников для определения того, что она «означает» или «о чем сообщает» [5, с. 173-174].
Таким образом, можно заключить, что ссылки на необходимость учета всего спектра экстралингвистических обстоятельств высказывания являются крайне неопределенными. В самом деле, в прагматической концепции высказывание рассматривается в трех плоскостях: семантическое значение, возможная интерпретация высказывания слушающим и контекст. Однако, как отмечает О.С. Бессонова, анализ выражения в каждой из этих плоскостей не в состоянии установить его метафоричность
Неудовлетворительность чисто семантического рассмотрения доказывают сами сторонники прагматической концепции. Но, в то же время, семантическое значение высказывания не может быть выведено из локутивных актов говорящего и его субъективных интенций, а также реакции на них слушающего, то есть из речевого значения. Наконец, учет речевой ситуации влечет за собой практически необозримое число факторов. Необходим, следовательно, интегративный критерий. Такую совокупность прагматических критериев попытался найти Дж. Серль.
Как и Дэвидсон, Дж. Серль отрицает, что семантическое значение предложения бывает двух типов – буквальное и метафорическое: «Предложения и слова имеют только те значения, которые они имеют» [5, с. 308]. Однако необходимо различать, что слова значат сами по себе, и то, как их может использовать говорящий. Если первое является собственным значением слова, то есть его семантическим значением, то второе – значением высказывания говорящим, то есть прагматическим значением: «Метафорическое значение – это всегда значение высказывания говорящего» [5, с. 308].
По Дж. Серля, для сообщения говорящим чего – либо при помощи метафорических и прочих небуквальных высказываний, его речь должна удовлетворять некоторым принципам, в соответствии с которыми он может иметь в виду нечто большее или отличное от того, что говорит. Эти принципы должны быть известны слушающему, который за счет их знания, понимает, что же говорящий имеет в виду, произнося «S есть P», но метафорически подразумевая, что «S есть R». Соотношение между значением предложения и значением метафорического высказывания имеет, по мнению Серля, регулярный, а не с случайный или произвольный характер. Поэтому он ставит задачу сформулировать эти принципы, посредством которых буквальное значение предложения соотносится с метафорическим значением высказывания. Данные принципы не входят в традиционно понимаемую теорию семантической компетенции, так как лежат за пределами наших знаний о буквальных значениях слов и предложений, то есть принадлежат сфере прагматики.
Дж. Серль справедливо замечает, что задача объяснения метафорических высказываний предполагает предварительное определение буквальной предикации, чем сплошь и рядом пренебрегают исследователи, хотя «на самом деле строго описать буквальную предикацию – исключительно сложная, запутанная и тонкая проблема» [5, с. 309]. Мы не будем здесь приводить признаки, по которым Дж. Серль определяет буквальные высказывания, а отметим только общее различие между буквальными и метафорическими высказываниями. В случае буквального высказывания значение говорящего и значение предложения совпадают. Чтобы понять такое высказывание, слушающему не требуется никаких дополнительных знаний, кроме знания правил языка, осведомленности об условиях произнесения высказывания и владения общими фоновыми представлениями [5, с. 140].
Напротив, в случае метафорического высказывания слушающему требуется нечто большее, чем при понимании буквального высказывания. По мнению Дж. Серля, общий принцип функционирования всех метафор заключается в их способности вызвать в сознании – при произнесении выражения с буквальным значением и соответствующими условиями истинности – другое значение с соответствующим набором условий истинности [5, с. 314].
Критикуя интеракционистскую теорию, которая не удовлетворяет Дж Серля, он предлагает совокупность прагматических принципов, так как считает, что единственного принципа функционирования метафоры – в соответствии с которым метафоры производятся и понимаются – просто не существует [5, с. 32]. Дж. Серль формулирует около десяти принципов метафорической интерпретации, но это только для начала, по словам самого Дж. Серля, он уверен, что не знает всех этих принципов [5, с. 332]. Благодаря данным принципам, как считает Серль, слушающий способен в определенной ситуации интерпретировать произнесенное говорящим предложение «S есть P» как метафорическое высказывание «S есть R», хотя P очевидно не значит R.
Рассмотрев точки зрения Д. Дэвидсона и Дж. Серля, можно констатировать, что предложенный прагматический подход справедливо отмечает неадекватность традиционных семантических объяснений метафоры, так как игнорирует ее контекстуально-ситуационную зависимость. Однако и Дэвидсон, и Дж. Серль отрицали, что метафора лежит в сфере семантики.
Справедливо, что метафорическое изменение значений действительно первоначально происходит в речи и порождается ею, но из этого не следует, что метафора и ограничивается речью, никак не влияя на семантику языка и отдельных лексических единиц. Важнейший вклад прагматической концепции в объяснение метафоры это указание на роль экстралингвистического контекста (фоновых знаний) и обстоятельств речевой ситуации для порождения, функционирования и понимания метафоры.
Однако, как отмечает В. В. Петров, предложенные Дж. Серлем принципы не дают ясного ответа на основной вопрос, – на каком основании из множества характеристик P выбираются те характеристики R, которые мы проецируем на S? Другими словами, почему в примере Дж. Серля «Салли – ледышка» из многочисленных свойств льда говорящий выбирает, прежде всего, его температурную характеристику? Конечный вывод Дж. Серля о том, что мы выбираем именно те характеристики R, которые повышают значимость определенных свойств S, не представляется, по мнению В. В. Петрова, убедительным из – за его неопределенности [3, с. 136].
Прагматическая теория является существенным дополнением к семантико-синтаксическому подходу. Благодаря этому подходу изучение метафоры переносится на уровень речевого высказывания, однако она не проясняет механизм метафорического переноса и неясно, каким образом происходит выбор проецируемых характеристик.
1. Вежбицкая, А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XVI: Лингвистическая прагматика / Сост. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой; общ. ред. Е. В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 251-275.
2. Остин, Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XVII: Теория речевых актов. – М., 1986. – С. 22-129.
3. Петров, В.В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу //ВЯ. 1990. 3. С.135-146.
4. Степанов, Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения: Семиол. грамматика / Ю. С. Степанов. – Москва: Наука, 1981. – 360 с
5. Теория метафоры: [Сборник] / Пер. под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской; Вступ. ст. [с. 5-32] и сост. Н. Д. Арутюновой; [Авт. примеч. М. А. Крон-гауз]. – Москва: Прогресс, 1990. – 511 с.
6. Толочин, И.В. Метафора и интертекст в англоязычной поэзии: лингвостилистический аспект. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 1996г. – 96 с.
7. Leech, Geoffrey. Principles of Pragmatics: монография / G. Leech. – New York: Longman, 1983. – 250 p.